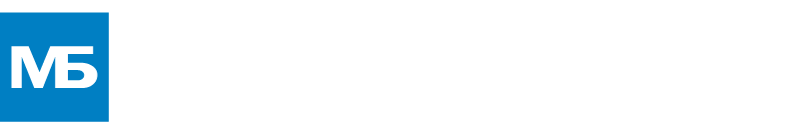Автор: Нетужилов Н.А.
Введение
Последние годы стали свидетелями значительных экономических трансформаций, в результате которых параллельный импорт занял центральное место в дискуссиях о торговле и защите интеллектуальной собственности. Под параллельным импортом обычно подразумевается доставка в страну товаров с оригинальной маркировкой, принадлежащих известным брендам, без согласия правообладателя, то есть за пределами официальных дилерских сетей. Потребность в изучении параллельного импорта в России резко возросла после 2022 года, вследствие введенных санкций и возникшей экономической изоляции. Данная тема приобрела особую актуальность из-за внедрения нетипичных для России мер, направленных на легализацию ввоза продукции без разрешения иностранных правообладателей. Такие действия стали настоящим прорывом в российской практике, поскольку впервые с начала 2000-х годов страна отказалась от традиционного подхода, согласно которому право на товарный знак исчерпывается на национальном уровне. Результаты исследования имеют практическое значение, так как выявляют риски, связанные с новым механизмом параллельного импорта, что необходимо учитывать бизнесу, покупателям и регулирующим органам при разработке будущих стратегий.
В данном исследовании анализируются ключевые риски, присущие параллельному импорту в текущем пятилетнем периоде (2020-2025). В вводной части обосновывается значимость и задачи проводимого исследования. Данный анализ углубляется в правовое положение параллельного импорта в России, рассматривая динамику законодательных изменений, выявляя правовые пробелы и судебные решения, а также оценивая экономические риски для всех участников рынка. В сравнительном ключе рассматриваются международные подходы к параллельному импорту (ЕС, США, Китай), а также анализируются политические и геоэкономические тенденции, которые оказали влияние на развитие параллельного импорта в последнее время. В финале работы представлены выводы и предложения, призванные свести к минимуму выявленные риски и улучшить эффективность регулирования процесса параллельного импорта.
Параллельный импорт: особенности и его регулирование в российской правовой системе
Импорт параллельный определяется как ввоз в страну подлинных товаров, имеющих защищенные товарные знаки, без согласия владельца этих знаков. Этот вид импорта реализуется независимо от официальных дистрибьюторских сетей, то есть не через авторизованных продавцов, а через собственные, альтернативные каналы. Стоит отметить, что речь идет исключительно о продукции, изготовленной самим производителем, и не о подделках. В прошлом, в ряде государств, включая Россию, параллельный импорт воспринимался как нарушение авторских прав на товарный знак, при условии соблюдения принципа национального исчерпания. Этот принцип гласит, что право на товарный знак не прекращается после продажи товара за границей, и владелец бренда имеет право запретить ввоз таких изделий на свою территорию без разрешения. В России с 2002 года действовало законодательство, которое фактически исключало возможность легального параллельного импорта на протяжении длительного времени.
До 2022 года запрет на параллельный импорт в России регулировался статьей 1487 Гражданского кодекса. Эта статья, актуальная до недавних изменений, определяла, что ввоз продукции с оригинальным товарным знаком допускался исключительно по разрешению правообладателя или при его согласии. В результате, импорт оригинальных товаров без соответствующего разрешения считался нарушением авторских прав на товарный знак. Можно сказать, что эти товары представляли собой фактически под видом легальной торговли скрытую контрабанду. До 2009 года Россия активно боролась с параллельным импортом, налагая на нарушителей как гражданские, так и административные санкции. После 2009 года административная ответственность была ослаблена, оставив лишь гражданско-правовые последствия, такие как иски правообладателей о запрете ввоза и возмещении ущерба.
До официального разрешения параллельного импорта, несмотря на запрет, установленный статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, суды столкнулись с неоднозначной ситуацией. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) придерживалась позиции в пользу более либерального подхода к параллельному импорту, аргументируя это тем, что запрет ведет к монополизации рынка и завышению цен, а также ограничивает конкуренцию. В некоторых судебных разбирательствах ФАС оказывала поддержку импортерам. В 2017 году Арбитражный суд Москвы вынес решение, которое получило широкую огласку: он отверг иск японской компании, занимающейся производством автозапчастей, и признал легитимность параллельного импорта в рамках данного конкретного спора. Этот исход спора можно считать поддержкой позиции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и эксперты рассматривают его как потенциальный прецедент, который может привести к расширению рынка для параллельного импорта.
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации оказала существенное влияние на развитие данной ситуации. В 2017 году КС РФ принял решение по жалобе ООО «ПАГ», которое импортировало в страну товары Sony (в частности, специализированную бумагу для ультразвуковых аппаратов) без разрешения правообладателя, что привело к судебному иску о защите его товарного знака. Конституционный Суд России в своем заключении акцентировал существенную разницу между оригинальным товаром, ввезенным параллельным импортом, и поддельной продукцией. Суд подчеркнул, что факт ввоза товара на территорию страны не автоматически делает его контрафактным, поскольку между легитимным товаром, выпущенным правообладателем, и подделкой существует принципиальная разница. Итогом развития практики 2017–2018 гг. стало смягчение подхода: нарушителей параллельного импорта чаще не уничтожали товар и не привлекали к тяжелой ответственности, а обязывали осуществить реэкспорт – то есть вывезти ввезенный товар обратно за пределы РФ . Таким образом, до 2022 года параллельный импорт в России официально оставался незаконным, но назрели предпосылки к переоценке такого режима.
Параллельный импорт в РФ: правовые корректировки, внесенные в 2022 году
В феврале 2022 года российская политика импорта претерпела существенные изменения под давлением международных санкций. Геополитическая напряженность привела к масштабному выходу западных компаний из России и прекращению поставок товаров сотен известных брендов. К началу весны 2022 года на прилавках российских магазинов наблюдалась нехватка широкого спектра товаров, начиная от высокотехнологичной продукции и заканчивая обычными товарами повседневного спроса. Чтобы обеспечить отечественный рынок нужными товарами и удержать цены на стабильном уровне в период дефицита, российское правительство приняло решение о временной легализации параллельного импорта.
В марте 2022 года Правительство России издал Постановление № 506, которое в существенной степени изменило применение некоторых положений Гражданского кодекса к определенным товарам. Название постановления ясно указывало на его основную задачу: исключить действие ряда норм ГК РФ, касающихся защиты исключительных прав, для определенных категорий товаров. В соответствии с этим документом, правительству было поручено составить список товаров, для которых разрешен параллельный импорт. Основание для данного решения было продиктовано введением экстренного Федерального закона № 46-ФЗ, принятого 8 марта 2022 года, который в числе прочего позволил Правительству разрешить параллельный импорт определенных видов продукции в текущем году.
Минпромторг РФ 19 апреля 2022 года дополнил Постановление № 506 новым приказом № 1532, в котором детально прописал правила параллельного импорта для определенной категории товаров. В документе был представлен исчерпывающий список разрешенных к импорту наименований, насчитывающий более 50 категорий и сотни популярных мировых брендов. В список разрешенных к ввозу без согласия правообладателей попали разнообразные товары, от автомобилей популярных брендов, таких как Tesla, Toyota, BMW, до электроники от Apple, Samsung, Siemens и Dyson. Также разрешалось ввозить игровые приставки от ведущих производителей, одежду, обувь, косметику и парфюмерию. В целом, в условиях нового рынка, спрос на который был ориентирован на широкий спектр товаров, от высокотехнологичной техники до предметов роскоши, практически все категории продукции получили доступ к свободному ввозу.
С момента запуска механизма его влияние уже стало ощутимым. К августу 2022 года суммарная стоимость товаров, ввезенных по параллельному импорту, составила более 6,5 миллиардов долларов. Прогнозы Министерства промышленности и торговли указывают на то, что к концу года объем параллельных поставок может вырасти до 16 миллиардов долларов. Такой поток товаров способствовал частичному замещению ушедших официальных дистрибьюторов и минимизации возникшего дефицита. К лету 2022 года крупные торговые сети, специализирующиеся на электронике, такие как “Связной”, нашли способы закупать и продавать смартфоны, игровые консоли и другую технику через новые, нетрадиционные пути.
Нововведение, касающееся параллельного импорта, и связанное с ним освобождение от юридической ответственности
В дополнение к мерам по снятию административных ограничений, российское законодательство было дополнено новыми положениями, направленными на защиту участников параллельного импорта от возможных правовых последствий. 21 июня 2022 года Государственная Дума утвердила федеральный закон, легализующий параллельный импорт, который затем 28 июня 2022 года получил одобрение Президента В. Путина. Теперь четко установлено, что ввоз товаров, попавших в специальный список, не подпадает под действие исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и товарные знаки. Это означает, что на импорт таких товаров не будет применяться статья 1487 Гражданского кодекса РФ, которая запрещает ввоз без разрешения правообладателя.
Новый закон предоставляет бизнесу существенные защитные механизмы. В сопроводительных материалах к закону отмечается, что данная мера необходима для противодействия росту цен, вызванному санкционным дефицитом. Рустам Тихонов, директор департамента Минэкономразвития, подчеркнул, что принятый документ ограждает российских предпринимателей от возможных исков правообладателей, исключая для них не только гражданскую, но и другие виды ответственности – административную и уголовную. В отношении импортёров, транспортных компаний и продавцов товаров, попавших в утвержденный список, исключается ответственность за нарушение авторских прав. Необходимо отметить, что данный иммунитет распространяется исключительно на оригинальные изделия – закон не допускает ввоза поддельной продукции, а борьба с контрафактом продолжается в прежнем русле. Теперь импорт оригинальных товаров, внесенных в государственный реестр, не повлечёт за собой наказания, если отсутствует разрешение владельца бренда.
Таким образом, к середине 2022 года в России был создан особый правовой режим “ограниченного параллельного импорта”. Ограниченного – потому что легальным признается не любой параллельный импорт, а лишь в отношении товаров, входящих в утвержденный перечень. Однако этот перечень охватил крайне широкий спектр продукции, удовлетворяя насущные потребности рынка. Руководитель ФАС Михаил Шаскольский считает произошедшее возвращением к привычному для России порядку, который действовал до 2002 года. По его мнению, ранее действовавшее ограничение лишь способствовало росту монопольных цен со стороны компаний, владеющих правами на объекты интеллектуальной собственности, и дистрибьюторов.
Важно подчеркнуть, что концепция параллельного импорта была с самого начала задумывалась как краткосрочная мера, принятая в экстренной ситуации. Такую точку зрения выражали как представители власти, так и эксперты. Так, например, управляющий партнер патентного бюро А. Залесов назвал внесенные поправки вынужденными и подчеркнул их исключительно экстренный характер, выразив уверенность в том, что они не станут постоянной нормой. Несмотря на это, в 2023-2024 годах механизм параллельного импорта остается актуальным и его действие было уже продлено на последующие временные отрезки (подробности см. далее).
Потенциальные экономические и коммерческие вызовы импорта, осуществляемого параллельно
Введение параллельного импорта стало ключевым событием, которое существенно переформатировало бизнес-ландшафт в многих отраслях. Помимо очевидных преимуществ, таких как увеличение ассортимента, сокращение дефицита и усиление конкуренции, возникли и экономические угрозы, затрагивающие интересы разных участников рынка – от импортеров и дистрибьюторов до владельцев прав на интеллектуальную собственность и конечных покупателей. Давайте разберем риски для каждой из этих категорий более подробно.
Параллельный импорт ставит перед импортёрами ряд серьёзных вызовов, в том числе логистических и финансовых. В связи с введенными в 2022 году санкциями прямые поставки многих товаров в Россию ограничены или запрещены, что заставляет импортёров искать альтернативные пути. Часто это означает создание сложных логистических маршрутов, проходящих через страны, не участвующие в санкционных мерах (такие как Турция, Казахстан, ОАЭ, Китай и другие). Такая ситуация приводит к росту логистических издержек, удлинению сроков доставки и повышению рисков на всех этапах процесса (возрастание цен на транспортировку, увеличение страховых платежей, риск задержек при пересечении границ). Финансовые риски проявляются в виде колебаний обменных курсов и трудностей с расчетами, например, при работе с валютами, отличными от доллара или евро (юань, дирхам), а также риском замораживания платежей при малейшем подозрении на санкционную подоплеку сделки. Импортер вынужден осуществлять предоплату за приобретаемые товары, часто в небольших объемах, и нести финансовую ответственность за хранение, сертификацию и приспособление продукции к нормам России.
Нестабильность в сфере регулирования создает для бизнеса определенные опасения. Импортеры могут столкнуться с ситуацией, когда инвестиции в товар, который впоследствии может быть запрещен к импорту, из-за изменения списка разрешенных брендов или категорий. В 2022 году наблюдалось исключение отдельных брендов из списка допускаемых к продаже, в том числе, некоторые люксовые парфюмерно-космeтические марки временно исчезали из него. Такое решение принималось при получении информации о готовности официальных поставок. Поставщик, решивший импортировать товар на свой риск, рисковал остаться с невостребованным товаром, судьба которого оставалась неопределенной. Неопределенность мешает формированию долгосрочных планов, поскольку компании склонны к краткосрочным спекулятивным действиям, откладывая создание стабильных и надежных каналов.
При официальном ввозе продукции производитель или его представитель обычно берет на себя ответственность за получение всех необходимых разрешений и сертификатов. Параллельный импортер же, занимаясь импортом без прямого согласия производителя, вынужден самостоятельно пройти все этапы процедуры соответствия, включая сертификацию, оформление разрешительных документов, перевод сопроводительной документации и маркировку в соответствии с требованиями ЕАЭС. Для каждого товара обязательным условием является наличие знака ЕАС, подтверждающего его соответствие техническим регламентам. Освоение новых рынков может быть затруднено, если производитель не оказывает достаточной поддержки. Таможенные процедуры могут затянуться или быть вовсе заблокированы из-за несоответствия продукции установленным нормам (например, несертифицированная электроника не сможет быть выпущена до предоставления необходимых сертификатов). Импортеры вынуждены инвестировать в сертификацию каждой партии товаров, что негативно сказывается на их прибыли.
Рынок параллельного импорта переживает бурный рост, привлекая сотни новых участников: от крупных онлайн-площадок до мелких предпринимателей. Такая высокая конкуренция, с одной стороны, благоприятно сказывается на потребителях, предлагая им более низкие цены, но с другой стороны, сокращает прибыль импортеров. В результате рынок серого импорта характеризуется высокой степенью конкуренции, нестабильными ценами и риском демпинга. Покупатели товаров из других стран могут столкнуться с ситуацией, когда закупили продукцию по высокой цене, а продать ее потом приходится по значительно более низкой цене из-за неожиданного появления большого количества аналогичных товаров на рынке, поступающих из других источников.
Возможные угрозы для владельцев прав интеллектуальной собственности и лицензированных производителей
Поставщикам брендов и официальным производителям (включая их дочерние компании) параллельный импорт грозит рядом опасностей и негативных вызовов:
Отсутствие контроля над российским рынком стало серьезной проблемой для правообладателей. Ранее они могли определять условия продажи своих товаров, включая ценовую политику и маркетинговые стратегии, через сотрудничество с эксклюзивным дистрибьютором. Сейчас же товар может попасть в руки потребителей по непредсказуемым каналам, лишив правообладателей возможности влиять на его распространение. По словам специалиста А. Залесова, сейчас правообладатели лишены возможности регулировать судьбу своих товаров, будь то продукты, защищенные патентом или авторским правом, или товары с их товарными знаками. На российском рынке бренды оказываются лишенными контроля над собственным имиджем. Такая потеря контроля может привести к негативным последствиям: товары могут предлагаться в несоответствующих условиях, по неадекватным ценам, с нарушением стандартов выкладки, что в конечном итоге подрывает позиционирование бренда как престижного.
Ранее правообладатели могли защищать свои интересы, используя судебные и таможенные процедуры для блокировки незаконного импорта, например, по подозрению на нарушение товарного знака таможня могла остановить груз. Однако теперь для товаров из определенного перечня эти возможности недоступны: ни судебный процесс, ни таможенное регулирование не позволят ограничить параллельные поставки. В связи с этим некоторые производители беспокоятся, что борьба с подделками станет еще сложнее. В случае, если нечестные продавцы подделывают оригинальные товары, смешивая их с подделками, правообладателю трудно самостоятельно выявить поддельные изделия, что может привести к ослаблению административной поддержки защиты иностранных брендов.
Потери для бизнеса проявляются в виде упущенной выгоды для официальных дистрибьюторов и представительств. Товары, ввозимые параллельным путем, обычно предлагаются по более низкой цене, так как не включают в себя выплаты роялти и маркетинговые наценки. В случае если бренд сохраняет присутствие в России через действующих партнеров, им приходится либо корректировать ценовую политику, чтобы конкурировать, либо рисковать потерять свою долю рынка. Ещё одним негативным последствием может стать нарушение эксклюзивных контрактов. Например, дистрибьюторы из других стран, реализующие продукцию в России, фактически нарушают договоренности с производителями, которые обычно ограничивают перепродажу за границу. Производитель вынужден либо принять такие нарушения, либо предпринимать действия по контролю над зарубежными партнерами, что часто оказывается нереализуемым. В результате, глобальная стратегия сбыта компании выходит из строя.
В случае возникновения массовых проблем с параллельно ввезенными товарами, например, дефектов или неисправностей, это может нанести существенный ущерб имиджу бренда. Несмотря на то, что правообладатель не имеет полного контроля над ситуацией, потребители будут связывать проблемы с маркой, независимо от официальности продажи. Это может привести к негативным последствиям, например, к возникновению скандалов, если бренд откажет в гарантийном обслуживании, что, хотя и формально допустимо, неизбежно вызовет общественный резонанс. В некоторых сферах, таких как автомобилестроение, компании пошли на уступки, предлагая обслуживание импортных товаров, ввезенных параллельно, чтобы не потерять доверие покупателей. Однако, это добровольное действие не меняет того, что ответственность производителя за качество продукции в таких случаях становится более размытой.
Возвращение на российский рынок после нормализации ситуации представляет собой серьезную дилемму для брендов, поскольку они рискуют столкнуться с перестроенной рыночной реальностью. Главной проблемой станет то, что в отсутствие брендов на рынке сформировались новые игроки – параллельные импортеры, а потребители привыкли к приобретению товаров через серый канал, который часто предлагает более доступные цены, в том числе на контрафактную продукцию. По мнению М. Пожидаевой, если покупатели привыкнут к недорогим товарам, чья подлинность вызывает сомнения, то возврат официальных поставок качественных оригиналов может оказаться бесперспективным. В результате, параллельный импорт и контрафакт могут помешать возвращению на рынок многих зарубежных брендов, создав устойчивый спрос на нелегальные аналоги. Изменение политической обстановки не гарантирует возвращения брендов на рынок, так как сформировавшиеся у потребителей новые привычки могут сохраниться на длительный срок.
Потенциальные риски для покупателей
Потребители, казалось бы, выигрывают от параллельного импорта, ведь ассортимент товаров, ранее ограниченный санкциями и уходом брендов, становится шире. В некоторых категориях цены даже опустились ниже, чем на нелегальном рынке. Но у этой ситуации есть и свои подводные камни для покупателей:
- Покупка товаров по параллельному импорту лишена официальной защиты. Как отмечалось ранее, такие изделия не подпадают под гарантийные обязательства производителя и не обслуживаются в официальных сервисных центрах. В результате, покупатель несет ответственность за возможные поломки: ремонт и поиск запчастей придется осуществлять самостоятельно и за свой счет. Особенно это актуально для сложной техники, например, автомобилей, где отсутствие сервисной поддержки может полностью нивелировать выгоду от приобретения. Специалисты предупреждают о том, что гарантийное обслуживание для товаров, ввозимых по параллельному импорту, может оказаться самым сложным вопросом.
- Несоответствие импортных товаров местным стандартам и предпочтениям потребителей – частая проблема. Так, бытовая техника и электроника, ввезенная из-за рубежа, может иметь интерфейс и программное обеспечение на иностранном языке, что создает сложности для пользователей. Кроме того, вилки, форматы частот и стандарты связи могут не соответствовать российским нормам. Автомобили, импортированные параллельно, могут быть оснащены комплектациями, предназначенными для других климатических условий, или иметь бензиновые двигатели, работающие на топливе с отличающимися характеристиками. В конечном итоге, вся эта ответственность ложится на плечи покупателя, который вынужден самостоятельно искать решения для совместимости (например, покупать переходники, обновлять прошивку и т.д.).
- Проблема подделки товаров и сложность для покупателя в определении их подлинности — это актуальная проблема. Покупатель, делая покупку на маркетплейсе или в обычном магазине, полагается на продавца, что товар является оригинальным, будь то параллельный импорт или нет. Однако, качественная подделка может быть трудно различима невооружённым глазом, и только специализированная экспертиза может дать точный ответ. Эксперты отмечают, что некоторые онлайн-магазины, маскируясь под поставщиков параллельного импорта, фактически реализуют контрафакт, тем самым нарушая основополагающий принцип подлинности продукции. При покупке товара низкого качества потребитель может оказаться в непростой ситуации, так как не всегда сразу понимает, что приобрел некачественный продукт, а в случае возникновения проблем с защитой своих прав (например, продавец становится недоступным) доказать обман может быть очень сложно.
- Стоимость и качество товаров, поступающих через параллельный импорт, не всегда коррелируют ожидаемым образом. Несмотря на то, что параллельный импорт, как правило, ассоциируется с понижением цен, в первые месяцы 2022 года, во время становления новых импортных путей, наблюдалось повышение цен на ряд товаров. Это объяснялось усложнением логистических процессов и ограниченным предложением. К примеру, электроника демонстрировала существенно более высокую цену по сравнению с периодом до ухода брендов с российского рынка. Со временем ситуация нормализовалась, однако риск ценовых скачков сохраняется при изменении курса рубля или в случае введения новых ограничений. Помимо этого, покупатель часто сталкивается с ситуацией, когда товар продается без полного набора услуг (например, отсутствует русскоязычная инструкция, не предусмотрены бонусные программы лояльности, возврат или обмен у производителя невозможен). В результате соотношение цена-качество может оказаться невыгодным для покупателя: он уплачивает практически ту же сумму, что и раньше, но получает упрощенную покупку без надлежащего сервисного обслуживания.
- В худшем сценарии, если товар внезапно станет нелегальным, например, из-за введения новых санкций или исключения из списка разрешенных, покупатель может иметь трудности с легализацией своей покупки. К примеру, если бренд автомобилей будет исключен из разрешенных, владельцы импортных машин могут столкнуться с препятствиями при оформлении регистрации. В случае если аналогичный товар не прошел необходимую сертификацию, покупатель может столкнуться с трудностями при проведении проверок, подобно тому, как это случается с немаркированной электроникой.
Потребители пока отнеслись к параллельному импорту благосклонно, видя в нем шанс получить доступ к необходимым товарам. Однако первые негативные последствия уже становятся заметны. Увеличение жалоб на недействительные гарантии и распространение подделок под видом оригинальных товаров – все это указывает на необходимость усиления государственных мер по защите прав покупателей. Для повышения ответственности продавцов товаров параллельного импорта за взаимодействие с покупателями может быть необходимо внесение изменений в законодательство, регулирующее дистанционную торговлю, или специальных разъяснений Роспотребнадзора.
Международный контекст: опыт ЕС и Китая
Чтобы глубже разобраться в особенностях параллельного импорта в России, стоит изучить, как другие страны подходят к этому вопросу. Международные правовые подходы к параллельному импорту весьма разнообразны: одни государства его категорически запрещают, другие же допускают или даже стимулируют параллельные поставки. Этот раздел фокусируется на анализе правового статуса параллельного импорта в двух ведущих юрисдикциях: Европейском Союзе и Китае, с учетом последних тенденций, сформировавшихся в период с 2020 по 2025 год.
Европейского Союз (региональное исчерпание прав)
В рамках Европейского Союза действует правило, известное как региональное исчерпание прав на товарный знак. Оно освобождает от ограничений правообладателя перепродажу его продукции в пределах Европейской экономической зоны после ее первоначального введения в оборот, будь то в стране-члене ЕС или с его разрешения. Таким образом, параллельный импорт товаров между странами ЕС, фактически, легален и является ключевым элементом свободной торговли в Союзе. Ввоз продукции из-за пределов ЕС, произведенной в третьих странах, без разрешения владельца товарного знака строго запрещен. Даже если товар был официально реализован владельцем, например, в США или Китае, это не означает, что права на товарный знак в ЕС считаются исчерпанными. Владелец товарного знака сохраняет право запретить импорт такой продукции на территорию Европейского Союза.
В рамках Евросоюза правовое регулирование данной темы регламентируется Директивой и Регламентом по товарным знакам, где в статье 15(1) Регламента ЕС о товарных знаках четко прописано: право на товарный знак исчерпывается только при ввозе товара на рынок ЕС самим владельцем или с его разрешения. Следовательно, “серые” товары, ввезенные извне ЕС без санкции правообладателя, квалифицируются как нарушение товарного знака, сравнимо с подделкой, несмотря на то что сами товары являются оригинальными. В случае подачи заявления правообладателя, таможенные службы Евросоюза останавливают ввозимые товары, а последующие судебные разбирательства приводят к запрету их реализации.
Несмотря на единый рынок ЕС, существуют значительные объёмы легальной параллельной торговли, особенно в сегментах фармацевтики, автомобильной промышленности и брендовой электроники. Предприятия, специализирующиеся на этом виде деятельности, приобретают товары в странах с более низкими ценами и реализуют их в странах с более высокими ценами, таким образом, извлекая прибыль из разницы цен. Хотя данный процесс полностью легален, он подразумевает определенные обязательства, такие как обязательная перерегистрация импортируемых лекарств в стране продажи, наличие аннотаций на местном языке и т.п.
Российская модель регулирования импорта в период с 2002 по 2021 год была во многом основана на европейском подходе, но с одной ключевой разницей: свобода перемещения товаров, выпускаемых в России, не распространялась на импорт из-за рубежа. С 2022 года легализация параллельного импорта в России свидетельствует о переходе к более открытой системе, которая в некоторых аспектах напоминает международный принцип исчерпания, как это реализовано в США и Китае. В Евросоюзе принцип регионального исчерпания сохраняется неизменным, несмотря на периодические обсуждения о его возможной модернизации, например, о разрешении импорта товаров из-за пределов ЕС для снижения цен. Тем не менее, мощное лобби правообладателей в Европе пока не позволяет внести существенные изменения в законодательство, гарантируя надежную защиту их прав: импорт товаров из третьих стран по параллельной схеме по-прежнему остается запрещенным.
Китай (дозволенность при отсутствии запрета)
Китайская правовая система по вопросу параллельного импорта часто характеризуется как “разрешено все, что не указано как запретное”. Китайское законодательство в сфере интеллектуальной собственности не содержит четкого запрета на параллельный импорт продукции. Судебная практика в Китае в основном склоняется к мнению, что ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя не влечет за собой нарушений прав на товарный знак, при условии отсутствия других, усугубляющих, обстоятельств.
Судебные решения последних лет, начиная с 2015 года, четко продемонстрировали легальность параллельного импорта. Так, в мае 2020 года Гуанчжоуский суд по интеллектуальным правам вынес постановление, в котором отказал в удовлетворении иска о нарушении товарного знака, поданного против компании, которая импортировала оригинальную продукцию известного немецкого бренда OBO, не имея на это официального разрешения. Суд пришел к выводу, что представленные товары являются подлинными, так как их характеристики не отличаются от официально реализуемых в Китае аналогов. Отсутствие в китайском законодательстве прямого запрета на параллельный импорт и отсутствие признаков нарушения товарного знака также послужили основанием для такого решения. Суд подчеркнул, что импорт не измененных товаров не подрывает ключевые функции товарного знака, которые заключаются в обеспечении качества и происхождения товара. Суд закрепил уже сложившуюся практику: импорт не контрафактных товаров без особого разрешения не влечет за собой правонарушения, при условии, что они отвечают всем необходимым стандартам, например, имеют сертификат соответствия, и не подвергаются изменению со стороны импортера. Важно понимать, что любые изменения со стороны импортера, будь то модификация товара или его упаковки, могут быть расценены как нарушение.
Китай в действительности придерживается принципа исчерпания прав на товарные знаки в международной торговле. Такой подход согласуется с общей китайской стратегией открытия рынков и обеспечения потребителям доступа к широкому спектру товаров. Единственным исключением могут быть товары, подпадающие под другие ограничения (например, государственные монополии или товары, связанные с национальной безопасностью), но в сфере интеллектуальной собственности никаких барьеров не создается. Кроме того, китайское законодательство в области патентов предусматривает возможность параллельного импорта товаров, защищенных патентами, что также считается видом исчерпания патентных прав.
До начала 2000-х годов Китай, фокусируясь на защите внутреннего рынка, использовал стратегию национального исчерпания. Однако, с повышением конкурентоспособности китайских компаний, импорт параллельных товаров стал выгодным для Китая. Такая политика стимулирует конкуренцию и оказывает давление на международные бренды, вынуждая их адаптироваться к китайским условиям и предлагать более привлекательные цены. Китайские компании, занимающиеся экспортом, могут столкнуться с параллельным импортом в других странах, что, в свою очередь, мотивирует их к повышению конкурентоспособности и эффективности своей продукции.
В 2022 году Россия, в отличие от Китая, оказалась в ситуации международного исчерпания ресурсов, что стало для нее вынужденной мерой. Китай же давно функционирует в подобном режиме, где параллельный импорт стал неотъемлемой частью экономической системы. Китайский опыт демонстрирует, что параллельные поставки могут быть успешно интегрированы в экономику: потребители имеют доступ к широкому ассортименту как официальных, так и параллельных товаров, выбирая по цене, а судебные разбирательства сводятся к минимуму при условии подлинности товара.
Влияние политических и геоэкономических обстоятельств на параллельный импорт в период с 2020 по 2025 год
Последние годы стали свидетелями стремительного развития параллельного импорта, что тесно взаимосвязано с глобальными политическими и экономическими изменениями. В период с 2020 по 2025 год ряд ключевых событий оказал существенное влияние на политику стран в сфере параллельных поставок, а также на связанные с ними опасения и риски.
В 2020-2021 годах мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая существенно нарушила привычные схемы поставок товаров, вызвав дефицит на глобальном уровне. Несмотря на то, что непосредственное влияние пандемии было ощутимо в сферах логистики и производства, а не в области интеллектуальной собственности, она, тем не менее, способствовала появлению более гибких подходов к торговым операциям. Дефицит медицинских товаров во время пандемии вынудил многие государства пойти на уступки, фактически игнорируя вопросы параллельного импорта и экспорта масок, ИВЛ, вакцин и других жизненно важных средств. Россия в 2020 году также применяла индивидуальные подходы к допуску необходимой продукции. Эта ситуация продемонстрировала, что в экстренных ситуациях гибкость в торговле является ключевым фактором, что и послужило отправной точкой для более решительных действий в 2022 году.
В 2022 году геополитические события, произошедшие после февраля, оказали самое сильное влияние на экономику России. Введенные в отношении РФ беспрецедентные санкции, включая ограничения на экспорт и отход иностранных инвесторов и торговых марок, вынудили российское правительство принять нестандартные решения. Одним из ключевых ответов на санкционное давление стало развитие параллельного импорта. Легализация импорта “серого” товара рассматривалась как демонстрация прочности российской экономики, ее способности адаптироваться и находить пути для поставок, независимо от официальных каналов. В этом процессе существенную помощь оказали геоэкономические альянсы: Россия воспользовалась поддержкой партнеров из ЕАЭС, Китая, Турции и других стран, не вводящих санкции, для создания новых транспортных коридоров. Но это обстоятельство породило новые угрозы: западные государства активизировали контроль за реэкспортом, принуждая страны, такие как Казахстан или Турция, блокировать транзит товаров, попавших под санкции. К примеру, весной 2023 года появилась информация о том, что Казахстан, под давлением, начал ограничивать возможности параллельного импорта в РФ. В результате параллельный импорт превратился в поле для маневра, где третьи страны вынуждены искать баланс между желанием торговать с Россией и опасением вторичных санкций.
В последние годы наблюдается глобальная тенденция к укреплению протекционистских мер и переосмыслению принципов глобализации. Протекционистские торговые войны, такие как конфликт между США и Китаем в 2018-2019 годах, продемонстрировали стремление государств к большей самостоятельности в управлении цепочками поставок критически важных товаров. В этом контексте параллельный импорт может восприниматься как способ обойти защитные торговые барьеры. США, введя пошлины на китайскую продукцию, стремились предотвратить ее прохождение через третьи страны. ЕС, ограничивая экспорт определенных товаров в Россию, предпринимает шаги по блокированию возможности их реэкспорта через другие государства. В связи с этим параллельный импорт в некоторых ситуациях приобрел политический характер. Так, например, экспорт западной электроники, предназначенной для военных нужд, стал объектом усиленного контроля со стороны США и ЕС, чтобы исключить попадание таких компонентов в Россию как прямым, так и косвенным путем. В текущем санкционном режиме, который усилился в 2023–2024 гг., под ограничения попала высокотехнологичная продукция, в частности микроэлектроника и оборудование. Зарубежные страны оказывают давление на ряд государств, включая ОАЭ, Турцию и Китай, с целью блокировки поставок подобных товаров в Россию, даже если они осуществляются транзитом. Такая ситуация создает повышенные геополитические риски для параллельного импорта, так как может привести к непредсказуемым действиям: от изъятия товаров из международных цепочек до внезапных запретов на транзит и арестов грузов по подозрению в нарушении санкций.
Россия рассматривает параллельный импорт как кратковременный инструмент, ориентируясь в долгосрочной перспективе на собственное производство и импортозамещение. Стратегическая цель страны – достижение технологической независимости, особенно в ключевых сферах, таких как информационные технологии, транспорт и медицина. В связи с этим, к параллельному импорту придерживаются сдержанной позиции, чтобы он не препятствовал развитию отечественных разработок и производств. Мантуров обосновывает сокращение списка товаров, подпадающих под параллельный импорт, увеличением локализации производства. Однако, это решение таит в себе политический риск: сокращение списка может быть обусловлено не только рыночной ситуацией, но и лоббистскими интересами, чтобы способствовать развитию определенных российских компаний. Например, появление отечественного смартфона может привести к исключению iPhone из списка параллельного импорта, мотивируя это поддержкой отечественного производителя (такого сценария пока не наблюдается, но он теоретически возможен). Неопределенность в этом вопросе обусловлена внутренней стратегией импортозамещения.
Легализация параллельного импорта вызвала резонанс в международной арене. Многие зарубежные структуры расценили этот шаг как сигнал, указывающий на несогласие с принципами защиты интеллектуальной собственности. В 2022 году в связи с обострившейся политической обстановкой европейские и американские патентные ведомства приостановили взаимодействие с Роспатентом. Этот символический шаг свидетельствует о серьезных репутационных потерях России. Страна теперь ассоциируется с ослаблением защиты интеллектуальной собственности, что может повлиять на решения иностранных компаний о возвращении на российский рынок и сотрудничестве в сфере технологий. Несмотря на заявления российской власти о законности и соответствие мировым стандартам принятых мер (с примерами США и Китая), в нынешней геополитической ситуации эти доводы звучат мало убедительно. Параллельно этому, репутация России в международном сообществе в области интеллектуальной собственности уже была подмочена другими действиями, например, разговорами о возможности введения механизмов, позволяющих использовать изобретения без разрешения правообладателей из стран, не относящихся к “дружественным”. Это явления, входящие в состав более широкого геоэкономического тренда: формирование мировых блоков, где соблюдение интеллектуальных прав перестает быть всеобщим принципом, а трансформируется в политический инструмент (защита IP-прав осуществляется внутри “своего” блока, в то время как по отношению к противникам они могут быть игнорированы).
К 2024 году параллельный импорт уже не просто обозначился в российской экономике, но и занял прочное положение, функционируя как устойчивый механизм, минимум до конца 2024 года, а возможно и далее, согласно официальным планам, которые предусматривают его действие и в 2025 году. Ситуация может кардинально измениться под влиянием двух политических сценариев: либо обострение конфликта, которое приведет к усилению санкций и, возможно, легализации производства аналогов без лицензии, либо его разрядка, при которой постепенно восстановится нормальная система защиты интеллектуальной собственности, если западные компании вернутся. На данный момент параллельный импорт остается единственным приемлемым решением в среднесрочной перспективе. Экономическая обстановка, в частности, динамика цен на энергоресурсы, курс рубля и состояние внешнеторгового баланса, оказывает существенное влияние: девальвация рубля ведет к росту стоимости параллельного импорта, что негативно сказывается на покупательской способности и может спровоцировать необходимость в субсидировании или других мерах поддержки.
В 2020-2025 годах политические и геоэкономические события трансформировали параллельный импорт из чисто юридического понятия в мощный экономический инструмент. Для России он приобрел статус важного элемента защиты экономики в условиях санкционного давления. Но эффективность параллельного импорта тесно связана с текущей внешнеполитической ситуацией и внутренней экономической стратегией страны. Поэтому и риски, связанные с ним, также меняются в зависимости от международной обстановки, усиливаясь или ослабевая по мере ее трансформации.
Заключение
Исследование выявило, что параллельный импорт в России претерпел существенные изменения, эволюционировав из нелегальной деятельности в официальную стратегию экономического развития. Введение легализации параллельного импорта в 2022 году было экстренной мерой, направленной на преодоление последствий санкционных ограничений, наложенных извне. Изменение правового режима в России в области интеллектуальной собственности, временная смена с национального на международный принцип исчерпания прав (для некоторых категорий товаров), имело как положительные, так и отрицательные последствия. Непосредственно после внедрения новой системы наблюдался быстрый приток дефицитных товаров на рынок, рост цен был сдержан, а альтернатива черному рынку появилась. Однако, детальный анализ выявил ряд потенциальных угроз:
- Недостаточность правового регулирования, выражающаяся в законодательных пробелах и неоднозначности формулировок, создает пространство для широкой интерпретации, что может спровоцировать злоупотребления, например, несанкционированное использование брендов в различных форматах. Неясность сроков действия механизма и перечня разрешенных товаров вызывает у бизнеса неуверенность в стабильности правовых норм. Отсутствие сложившейся судебной практики повышает вероятность новых споров, в частности, по определению границ допустимого и разграничению от контрафакта. Вопросы взаимодействия международного права и соглашений ЕАЭС пока остаются открытыми, несмотря на то что фактически участники союза предпочитают не акцентировать внимание на несоответствии действий России ранее установленным нормам.
- Импортеры сейчас работают в условиях повышенной сложности логистических цепочек, усиленной конкуренции и рисков, связанных с возможными изменениями в регулировании. Правообладатели испытывают финансовые потери и утрату контроля, что может отпугнуть их от возвращения на российский рынок или инвестирования в него. Потребители рискуют приобрести некачественные, не адаптированные или поддельные товары под видом параллельного импорта, что подчёркивает необходимость усиления государственных мер по защите их интересов.
- В отличие от ЕС, США и Китая, Россия приняла временный режим параллельного импорта, что делает ее подход более характерным для развивающихся стран, а не для экономики с высоким уровнем развития. ЕС придерживается жесткой политики запрета на ввоз без разрешения, США же установила сложную систему, ориентированную на защиту потребителей, в то время как Китай разрешает импорт при условии отсутствия мошенничества. Россия столкнулась с необходимостью перестроиться и присоединиться к более либеральному блоку, однако этот процесс был не постепенным, а резким, что породило напряженность в отношениях с бывшими союзниками и необходимость переоснащения бизнеса.
- Параллельный импорт оказался в эпицентре геополитических игр, превратившись в средство преодоления санкционных ограничений и укрепления внутренней стабильности. Его дальнейшее существование зависит от развития санкционного давления, успешности импортозамещения и отношения других стран к этой схеме, в частности, от желания транзитных государств участвовать в этих торговых маршрутах. Власти рассматривают данный механизм как временную меру, уже готовя его продление до 2024-2025 годов, при этом планируя сузить перечень подпадающих под него товаров. Такая позиция свидетельствует о противоречивых стремлениях властей: с одной стороны, они видят в этом механизме острую необходимость, с другой – осознают потенциальные негативные последствия для долгосрочного роста экономики.
Параллельный импорт представляет собой сложный феномен с двойным эффектом. С одной стороны, он выступает как краткосрочный стабилизатор экономики, предоставляя ей необходимую поддержку. С другой стороны, в долгосрочной перспективе он может нанести непоправимый ущерб правовой системе. Эффективное управление рисками, связанными с параллельным импортом, подразумевает поиск оптимального баланса: сохранение конкурентной среды и доступности товаров при одновременном минимизировании негативных последствий, таких как правовой хаос, контрафакт и снижение мотивации бизнеса. Российские регуляторы сталкиваются с непростой задачей: интегрировать параллельный импорт в экономику, обеспечив его эффективность и предотвратив возникновение новых сложностей. Международный опыт демонстрирует, что достижение этой цели возможно при наличии четкой правовой базы, которая защищает интересы как потребителей, так и правообладателей, устанавливая разумные границы для всех участников. 2020-2025 годы для России оказались годом нестандартных решений в области, требующей особого внимания; ключевой задачей на перспективу является освоение опыта, полученного в условиях неординарной ситуации, для создания устойчивой системы, способной противостоять любым внешним угрозам.